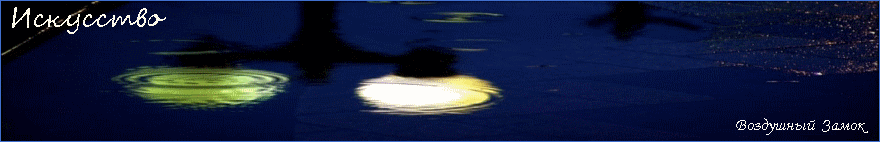И.А. Ильин.
…Художественная критика требует целостного вхождения в самое произведение искусства. Надо забыть себя и уйти в него. Надо дать художнику выжечь его произведение в моей душе, вроде того, как выжигают по дереву. Надо дать ему вылепить его произведение из моей, покорной ему, лепкой и держащей, душевной глины. В послушном ему, непредвзято-чистом пространстве моего внутреннего мира должно верно и точно состояться его видение. Все, что он носил, вынашивая в себе; весь его художественный замысел и помысел; и все образы, в которые он уложил эту свою художественную медитацию; и все внешнее тело его произведения, — слышимые звуки и слова, видимые линии, краски, плоскости, массы, — все должно быть воспринято моим духом, состояться в нем, стрястись, пропеть себя, выжечь себя в нем; словом — развернуться во мне, в пространствах моего духовного внимания. И тогда только...
Но, увы, люди воспринимают искусство рассеянно и безразлично; никто и не думает о «целостном вхождении», о верном и точном восприятии, о глубокой и таинственной медитации художника. Думают о своем развлечении и удовольствии. Приносят в концерт или в картинную галерею свои повседневные интересы и настроения, свое обывательское «самочувствие». И не думают освободить в себе «духовное место» для художественного произведения. И потом судят о своих личных, мимолетных впечатлениях так, как если бы в них заключалось все дело. Дайте художнику властно дохнуть в ваш внутренний мир; дайте ему свою душу, как покорный и крепкий пластилин; не «уши» и не «глаза», а всю душу до дна. И тогда вы увидите, что возможна верная встреча в художественном произведении — и с самим художником, и с другими, так же сосредоточенно и предметно воспринимавшими его, как и вы...
Вам приходилось когда-нибудь видеть лицо художника, когда вы, возвращаясь из глубокого, самозабвенного созерцания его произведения, как бы из некоего священного колодца, в котором вы слышали или видели его видение, — когда вы начинаете выговаривать вслух, с трудом подыскивая слова, его основную медитацию, то Главное, ради которого он создавал свое произведение? Вы говорите в великой сосредоточенности, как бы ощупью, медленно, беспомощно, то иносказанием, то намеком; иногда почти изнемогая от напряжения, — но по существу верно. А его лицо, — и не лицо уже, а лик, — сияет радостным светом свершённости; ибо он видит, что искусство его состоялось в вас и что власть его передала вам (сквозь все образы и сквозь внешнее тело искусства) ту художественную медитацию, ту выношенную им тайну, ради которой он творил. И вам уже не нужно спрашивать его, верно ли вы осязали духом его художественный помысел; ибо на лице его вы уже прочли ответ...
Итак, во всяком подлинно художественном произведении имеется это главное, это сказуемое, некая бессознательно выношенная тайна, которая ищет себе верных образов и верного художественного тела (звуков, слов, красок, линий и т. д.). Эта тайна есть как бы душа произведения; отнимите ее — и все тело распадается на случайные куски и обрывки. Эта тайна есть как бы внутреннее солнце произведения, лучами которого все оно пронизано изнутри; она царит, и ей все подчиняется; она диктует художнику закон, и меру, и выбор, и необходимость, и все оттенки... Ей он повинуется. Из нее творит. Из нее критикует и исправляет свое создание. Ибо он знает, что всякое слово и весь ритм его поэмы; всякая модуляция его музыкальной темы; всякий персонаж его драмы; всякая деталь его картины; всякий жест и поза его танца — должны служить ей, являть ее; должны быть потребованы и выращены из ее глубины; должны быть необходимы для ее художественного прикровенного раскрытия...
Искусство есть прежде всего и глубже всего — культ тайны, искренний, целомудренный, непритязательный... Где нет этого сосредоточенного вынашивания тайны, где нет художественного тайноведения (о, сколь ответственного!), — там нет и настоящего искусства. Там или совсем нет Главного, или же оно подменяется рассудочными выдумками и произвольными комбинациями. Истинный художник есть не только «жрец прекрасного» (Пушкин), но и жрец мировой тайны, постигаемой в глубине сердечного созерцания. Он внемлет ей и в «дольней лозы прозябании», и в «подводном ходе гад морских», и в «криках сельских пастухов», — И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане. И в дуновении Чумы...
Если нет тайны и ее бессознательно-созерцательного вынашивания, — то нет и художника, нет и искусства, а есть лишь их праздная и соблазнительная видимость. Ибо искусство родится из таинственных недр мирового бытия.
Только при таком понимании искусства может быть верно разрешен вопрос о художественном совершенстве и художественном критерии.
Творящий художник имеет дело обычно с тремя слоями искусства.
Во-первых, — с внешней материей: в поэзии — это звучащее слово и язык; в музыке — это поющий звук и инструмент; в скульптуре — глина, камень, дерево, металл; в живописи — краски и цвета, линии, светотень; в театре и танце само человеческое тело, декорации, обстановка. Эта внешняя материя имеет свои законы (законы языка и грамматики, законы музыкального звучания и созвучия, законы цвета, законы масс, законы человеческого естества). Эти законы должны быть соблюдены, но при соблюдении подчинены двум более глубоким слоям. Ибо внешняя материя искусства есть лишь средство и орудие; она не самостоятельна и не смеет быть самодовлеющей. Она призвана быть верным знаком художественного образа и художественной тайны...
Так, безграмотное стихотворение не может быть художественно совершенным, какие бы яркие образы и глубокие помыслы оно ни несло читателю. Но одной грамотности и «стильности» — конечно, недостаточно. Нельзя попирать законы музыкального звучания и созвучия, но музыкальная грамотность в композиции и инструментовке и верный слуховой вкус — отнюдь не обеспечивает еще художественности. Мастер краски и линии может создать совершенно нехудожественную картину; мастер естественного телодвижения может художественно провалить свою роль и свой танец. Над внешней материей должен царить образ; над образом должна царить про-рекающаяся тайна.
Во-вторых, художник имеет дело с образным составом искусства. Строитель не просто скрепляет камни и дерево, но показывает нам образ храма и жилища. Воображение живописца дает зрителю, сверх того, образы плодов, цветов, деревьев, животных, гор, моря, неба, человеческого тела (и через него — человеческой души) или же просто узора; воображение поэта властно дать сверх этого всего еще и весь внутренно-душевный мир человека (в отвлечении от их внешности, напр., «Я вас любил» Пушкина); воображение музыканта властно показать по-своему не только все это, но и многие, ни словесно, ни зрительно не передаваемые состояния мира и содержания человеческого духа...
Все эти образы имеют свои законы (законы, подсказанные природой, законы пропорции, гармоничности, перспективы, законы человеческой психологии и другие, теоретически еще не исследованные и не формулированные... целое великое поле для исследователя!). И эти законы настоящий художник соблюдает интуитивно и бессознательно, но, соблюдая, подчиняет глубочайшему содержанию про-рекающейся художественной тайны. Ибо и образ не смеет быть самодовлеющим; и он есть лишь средство и орудие (чего не признавала, например, венецианская живопись) .
... Образный состав искусства имеет свою, обязательную «грамотность». Но и она подчинена Главному — третьему слою искусства, прорекающейся через художника тайне!
Итак, вот критерий художественного совершенства: будь верен законам внешней материи, но, осуществляя их, подчини их живую комбинацию главному образу; будь верен законам изображаемого образа, но, осуществляя их, подчини их живую комбинацию своему главному замыслу, являемой тайне; а художественный замысел свой всегда вынашивай до полной зрелости, и пусть он будет всепронизывающим, внутренним солнцем твоего произведения.
...Как солнце взращивает плод, пронизывая его своими лучами, так художественный замысел поэта должен пронизывать все стихотворение, глядясь в него и сияя из него людям...
Таково и было всегда все великое и классическое в искусстве. Таково оно будет и впредь.
Вот откуда открывается художественное совершенство. Вот где начинается настоящая и плодотворная художественная критика...