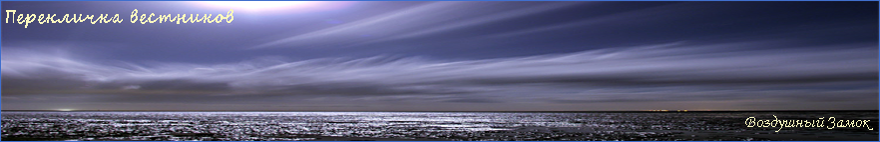Я начал размещать в библиотеке
избранные произведения М. Волошина:
Будут выложены также венки сонетов, поэмы «Святой Серафим» и «Россия», некоторые статьи из книги «Лики творчества», фрагменты работы «Живое о живом» Марины Цветаевой. В совокупности всё это достаточно определенно представит его личность и творчество.
На мой взгляд, М.Волошин – один из наиболее прямых предшественников Д.Андреева и в поэтике и в мироощущении. Можно непосредственно это наблюдать в образных и эмоциональных соответствиях: некоторые его стихи 20-х годов – такие как «Дикое Поле», «Китеж», «Владимирская Богоматерь» – по своей поэтической интонации предвосхищают многое из «Русских богов». Но за образной и языковой преемственностью просматривается и более глубокое, духовное родство.
С самого начала Волошин определился как поэт-мистик, равно открытый как наитиям собственного подсознания, так и накопленной Европой и Востоком мистической культуре. Многих современников приводила в недоумение пестрота его интересов, хотя все отдавали должное его эрудированности и остроте ума. Лишь немногие за этим видели цельность, всеохватность его личности. Об этапах своего духовного становления Волошин писал в автобиографии:
Два года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты и бесплодного искания. В 1899 году я был выслан в Феодосию за организацию студенческих беспорядков. Потом уехал в первый раз за границу: в Италию, Швейцарию, Париж, Берлин (…) возвращаясь, был арестован, привезен в Москву и выслан в Среднюю Азию.
Полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов, были решающим моментом моей духовной жизни. Здесь я почувствовал Азию, Восток, древность, относительность европейской культуры.
Это был 1900 год – год китайского пробуждения. Сюда до меня дошли «Три разговора» и «Письмо о конце всемирной истории» Вл. Соловьева, здесь я прочел впервые Ницше. Но надо всем было ощущение пустыни – той широты и равновесия, которые обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину.
Здесь же создалось решение на много лет уйти на запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы.
С 1901 года я поселился в Париже. Мне довелось близко познакомиться с Хамбу-ламой Тибета, приезжавшим в Париж инкогнито, и прикоснуться, таким образом, к буддизму в его первоистоках. Это было моей первой религиозной ступенью. В 1902 году я так же близко соприкоснулся с католическим миром, во время моего пребывания в Риме, и осознал его как спинной хребет всей европейской культуры.
Затем мне довелось пройти сквозь близкое знакомство с магией, оккультизмом, с франкмасонством, с теософией и, наконец, в 1905 году встретиться с Рудольфом Штейнером, человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя.
(…) В моих странствиях я никогда не покидал пределов древнего средиземноморского мира: я знаю Испанию, Италию, Грецию, Балеары, Корсику, Сардинию, Константинополь и связан с этими странами всеми творческими силами своей души. За многообразие интересов Волошина, за сложной внутренней эволюцией только немногим тогда были видны его внутренняя органичность и целенаправленность пути. В числе этих немногих – Е.Герцык и М.Цветаева:
Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична – угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром, что он в то время облекался то в слова Клоделя, то в изречения из «Бхагаватгиты» по-французски… (Их воспоминаний Е.Герцык)
…Вся его душа – прежде всего – сосуществование, которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов – эклектизмом. То единство, в котором было все, и то все, которое было единством.
…………………………………
Этого человека чудесно хватило на все, все самое обратное, все взаимно-исключающееся, как: отшельничество – общение, радость жизни – подвижничество. Скажу образно: он был тот самый святой, к которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же. (М.Цветаева. «Живое о живом»)
Эта цельность проявилась и в его человеческом поведении; в изложении Цветаевой очень ясно прослежена связанность его эстетических воззрений с их практическими проявлениями, и далее – с его позицией в период гражданской войны:
Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, т. е. извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условия», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. (…) Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным – значит зажигательным. Все, что было своего, то есть творческого в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс – знанием, опытом, дарованием – не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой.
…………………………………………………
Человек и его враг для Макса составляли целое: мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом – всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи. А так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя – его врагом. Вражда, как дружба, требует согласия (взаимности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противо-стоять человеку, только предстоянием своим он и мог противостоять человеку: злу, шедшему на него.
Думаю, что Макс просто не верил в зло, не доверял его якобы простоте и убедительности: «Не все так просто, друг Горацио…» Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением – du bien mal entendu – чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто – просто глупостью (в которую он верил) – прежде всего и после всего – слепостью, но никогда – злом. В этом смысле он был настоящим просветителем, гениальным окулистом. Зло – бельмо, под ним – добро.
Всякую занесенную для удара руку он, изумлением своим, превращал в опущенную, а бывало, и в протянутую. (…) И будь то (…) несостоявшийся наскок на него Репина,(…) или, позже, распря русских с немцами, или, еще позже, белых с красными, Макс неизменно стоял вне: за каждого и ни против кого. Он умел дружить с человеком и с его врагом, причем никто никогда не почувствовал его предателем, себя – преданным, причем каждый (вместе, как порознь) неизменно чувствовал всю исключительную его, М.В., преданность ему, ибо это – было. Его дело в жизни было – сводить, а не разводить, и знаю, от очевидцев, что он не одного красного с белым человечески свел, хотя бы на том, что каждого, в свой час, от другого спас. (…)
Миротворчество М.В. входило в его мифотворчество: мифа о великом, мудром и добром человеке. Не удивительно, что такая позиция привлекла к себе пристальное внимание Даниила Андреева: для него Волошин был чуть ли не единственным из современников, к кому он испытывал настоящее почтение. Не прошел мимо внимания Андреева и опыт миропознания и самопознания Волошина. В конечном счете всей совокупностью своих произведений Волошин выстроил собственную картину мира, соприкасающуюся со многими культурными, богословскими, философскими ориентирами, но ощутимо самостоятельную, где каждая ассоциация и скрытая цитата выверена собственным интуитивным критерием истинности. По своему масштабу и всеохватности ее можно считать ближайшим подступом к картине мира Андреева. Можно найти множество поразительных соответствий, и не только в умопостроениях, но и собственно в личном трансфизическом опыте.
Обнаруживается, что им обоим доводилось совершенно самостоятельно проникать в одни и те же области духовного космоса, получать сходные знания и почти одинаковым образом их дешифровывать. Такие моменты выражены у них по-разному и совершенно по-разному располагаются в их системах мироздания. Иногда, впрочем, поражает почти буквальное совпадение в словах и в ощущениях, ими вызываемых.
Приведу, почти наугад, несколько примеров.
У Андреева:
Мне было почти невозможно понять странную и скорбную весть о том, что в макробрамфатурах нашей Галактики существует материальный слой, где есть пространство, но нет времен (…). Это – страдалище великих демонов, царство темной вечности, но не в смысле бесконечно длящегося Времени, а в смысле отсутствия всяких времен. Такая вечность не абсолютна, ибо время может возникнуть и там, и именно в этом – одна из задач огромных циклов космического становления. Потому что возникновение времен сделает возможным освобождение из этого галактического ада великих страдальцев, заключенных там. О том же у Волошина:
Посмотри на этот малый сгусток
Тусклых солнц
И стынущих планет;
Этих звезд морозные метели –
Только вихри пыльного потока,
Леденящего
И гасящего жизни
И с собою увлекающего в бездну
Безвозвратного небытия.
Этот мертвый мир,
В котором
Всё распадается,
Ничто не создается, –
Этот мир
Был создан
Из чистейшей
Славы Божьей!
Ни одна частица
Не должна погибнуть и погаснуть.
………………………………
Человек же должен плоть расплавить
И спасти Архангела – Денницу
От смертельных вязей вещества. (Текст, не вошедший в окончательную редакцию поэмы «Святой Серафим»)
Очень сходно выражено проявление в психике людей инспираций Велги. У Волошина (стихотворение «Петроград»):
Как злой шаман, гася сознанье,
Под бубна мерное бряцанье,
И опоражнивая дух,
Распахивает дверь разрух –
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,
Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда, –
И враг, что друг, и друг, что враг –
Меречат и двоятся… – так
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский водит хоровод… Еще яснее мысль выражена в первоначальном варианте начала стихотворения:
Как злой шаман, гася дыханье
И опоражнивая дух,
Распахивает внутрь сознанья
Дверь исступлений и разрух,
И бесы ярости и блуда
В наш мир кидаются на зов… У Андреева (из поэмы «Рух»):
Чует Русь, как волю, разум
Бьет озноб.
Нечисть выпрыгнула сразу
Вдоль всех троп.
Кычет, манит в яр да в топи,
В тряс и колч пустых арайн, –
По ночам – возня и топот
Вдоль посадов и окрайн…
……………………………
Нечто лютое вошло
В сердце каждое:
Обнажает дно и тло,
Бесит жаждою;
Колобродит напролом
В сонмах душ оно,
И боярство – бить челом
Едет в Тушино.
……………………
От дракона, от колосса
Умирающей державы
Тени детищ стоголосых
Рвутся вширь:
Каждый – алчный, многоглавый,
Каждый – хочет, жаждет, нудит
Пить, упав к народной груди,
Как упырь. Еще приведу практически совпадающие взгляды двух мыслителей на проблему, ставшую одной из центральных в «Розе мира». В статье «О себе самом» Волошин приближается к ней постепенно:
…Художник должен знать законы роста. Это сближает задачи живописца с задачами естественника. Раз мы это поняли и приняли, мы не можем отрицать, что в истории европейской живописи в эпоху Ренессанса произошел горестный сдвиг и искажение линии нормального развития живописи. Точнее, этот сдвиг произошел не во времена Ренессанса, а в эпоху, непосредственно за ним последовавшую. При Ренессансе опытный метод исследования был прекрасно формулирован Леонардо. Но на горе живописцев, этот метод не был тогда же воспринят наукой, а был принят два поколения спустя в формулировке не художника, а литератора Фр.Бэкона. Это обстоятельство обусловлено, конечно, самим складом европейского сознания.
Таким образом, экспериментальный метод попал из рук людей, приспособленных и природой и профессией к эксперименту, к опыту и наблюдению, в руки людей, конечно способных к очень точному наблюдению, но никогда не развивавших и не утончавших своих естественных чувств восприятия, что привело в первую очередь к горестному дискредитированию «очевидности», но через это и к неисправимому разделению путей искусства и науки.
Правда, в области научного познания это привело к созданию различных механических приспособлений для точного определения мер и веса… Перед нами, таким образом, одна из основополагающих мыслей «Розы мира» – о двух главных направлениях в развитии цивилизации – духовном и техническом, и о том перепутьи, на котором оказалась Европа в эпоху Возрождения.
У Андреева так охарактеризованы этапы их расхождения:
С начала 17 века преобладание тенденции ко второму пути развития и стремительное угасание потенций первого пути становятся уже предельно ясными.
Второй путь развития характеризуется несколькими особенностями. Во-первых, резко и полностью разрывается связь между наукой, то есть познанием окружающего мира, и какой-либо духовностью. Духовность окончательно отбрасывается в область богословия, культа, мистической философии и искусства, то есть в ту область, на которую наука не обращает ни малейшего внимания, лишь гораздо позднее начиная изучать ее со своих же научных позиций. Во-вторых, методика познания сужается до скрупулезной эмпирики и чисто рассудочных обобщений эмпирически добытого материала. В-третьих, научная деятельность как таковая полностью эмансипируется от каких бы то ни было связей с практической этикой: корыстность или бескорыстность мотивов, порочность или добродетельность ученого не имеют больше никакого отношения к плодотворности его занятий.
……………………………………………
…Протестантизм, в сущности, оказался очередной ступенью общего, с раннего Ренессанса начавшегося и через гуманизм прошедшего движения – так сказать, «обезрелигиозивания» жизни (…). Следующей после Реформации ступенью этого процесса послужили эмпирическая философия в Англии, развитие наук, эмансипировавшихся от религии и этики; затем – энциклопедисты (…). Далее последовала ступень научно-философского материализма и, наконец, в 20 веке достигнут конец лестницы в виде возведения одной из разновидностей материализма в ранг государственного, всеобщеобязательного учения и его догматизация.
………………………………………………
От всех явлений духовного и интеллектуального ряда, даже от чистой науки, в значительной степени движимой чувством жажды познания, техника отличается одним: она не может не быть насквозь утилитарной. Психика людей, повседневно работающих в технике, над техникой, с техникой, приучается ко всему на свете подходить с критерием практической полезности. Если человек не сумеет сам заметить эту опасность, если он не отгородит глухой стеной ту сферу своей жизни и деятельности, где властвует техника, от остальных сфер своей жизни и души, он превращается в духовного калеку, духовного импотента, духовного слепца. Нет лучшего способа угасить в себе проблески чего бы то ни было духовного; нет более верного пути к выхолащиванию психики от понимания искусства, от любви к природе, от тяготения к религии, от тоски по мировой гармонии, от жажды любви. Вокруг этого же круга вопросов строится и вся концепция цикла
«Путями Каина». «Конец лестницы» выглядит у Волошина так:
С таким же исступлением, как раньше
В себе стремился выжечь человек
Всё то, что было плотью, так теперь
Отвсюду вытравлял заразу духа,
Охолощал не тело, а мечту,
Мозги дезинфицировал от веры,
Накладывал запреты и табу
На всё, что не сводилось к механизму:
На откровенье, таинство, экстаз…
Огородил свой разум частоколом
Торчащих фактов, терминов и цифр… («Таноб»)
Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.
Она ему наглядно доказала,
Что духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек – такая же машина,
Что звездный космос – только механизм
Для производства времени, что мысль –
Простой продукт пищеваренья мозга,
Что бытие определяет дух,
Что гений – вырожденье, что культура –
Увеличение числа потребностей,
Что идеал –
Благополучие и сытость,
Что есть единый мировой желудок
И нет иных богов, кроме него. («Машина»)
В другой стороны, много родственного можно найти и в светлых, духовно наполненных образах двух поэтов, на них явно воздействовали одни и те же светлые инспирации и находили схожий эмоциональный отклик. Интересно с этой позиции рассмотреть и пантеизм Волошина, и прароссианский колорит произведений 20-х годов (но проявлявшийся и раньше), взгляд на русскую историю, его отражения готических образов (цикл «Руанский собор» и др.), сферу подсознательных творческих импульсов («Сон», «Подмастерье») и, конечно, концепцию «Неопалимой Купины». В искусствоведческих эссе и публицистике он также раскрывается мыслителем, воздвигающим собственный миф, во многом созвучный «Розе мира». Отдельная тема – живопись Волошина, до сих пор по-настоящему не исследованная, в которую постепенно из поэзии перемещался центр его пантеистического и лирического высказывания.